Здравый смысл — это «знание, суждение и вкус, которые более или менее универсальны и которые поддерживаются более или менее без размышлений или аргументов». [1] Как таковой, он часто рассматривается как представляющий базовый уровень здравого практического суждения или знания основных фактов, которым должен обладать любой взрослый человек. [2] Он «общий» в том смысле, что разделяется почти всеми людьми. Повседневное понимание здравого смысла в конечном итоге вытекает из исторических философских дискуссий. [ необходима цитата ] Соответствующие термины из других языков, используемые в таких дискуссиях, включают латинское sensus communis , древнегреческое κοινὴ αἴσθησις ( koinḕ aísthēsis ) и французское bon sens . Однако это не простые переводы во всех контекстах, и в английском языке развились различные оттенки значения. В философском и научном контексте, начиная с эпохи Просвещения, термин «здравый смысл» использовался для риторического эффекта как одобрительно, так и неодобрительно. С одной стороны, он был стандартом хорошего вкуса , здравого смысла и источником научных и логических аксиом . С другой стороны, он был приравнен к общепринятой мудрости , вульгарным предрассудкам и суевериям . [3]
«Здравый смысл» имеет по крайней мере два более старых и более специализированных значения, которые повлияли на современные значения и по-прежнему важны в философии . Первоначальное историческое значение — это способность животной души ( ψῡχή , psūkhḗ ), предложенная Аристотелем для объяснения того, как различные чувства объединяются и позволяют различать определенные объекты людьми и другими животными. Этот здравый смысл отличается от нескольких чувственных восприятий и от человеческого рационального мышления , но он сотрудничает с обоими. Второе философское использование термина находится под римским влиянием и используется для обозначения естественной человеческой чувствительности к другим людям и обществу. [4] Так же, как и повседневное значение, оба философских значения относятся к типу базовой осведомленности и способности судить, которые, как ожидается, большинство людей будут разделять естественным образом, даже если они не могут объяснить, почему. Все эти значения «здравого смысла», включая повседневные, взаимосвязаны в сложной истории и развивались в ходе важных политических и философских дебатов в современной западной цивилизации , особенно касающихся науки, политики и экономики. [5] Взаимодействие между значениями стало особенно заметным в английском языке, в отличие от других западноевропейских языков, и английский термин, в свою очередь, стал международным. [6]
Именно в начале XVIII века этот старый философский термин впервые приобрел свое современное английское значение: «Те простые, самоочевидные истины или общепринятые знания, для понимания которых не требовалось никакой утонченности и никаких доказательств, чтобы принять их, именно потому, что они так хорошо согласуются с основными (здравым смыслом) интеллектуальными способностями и опытом всего социального тела». [7] Это началось с критики Декарта и того, что стало известно как спор между « рационализмом » и « эмпиризмом ». В первой строке одной из своих самых известных книг, «Рассуждение о методе» , Декарт установил наиболее распространенное современное значение и его противоречия, когда он заявил, что у каждого человека есть схожее и достаточное количество здравого смысла ( bon sens ), но он редко используется правильно. Поэтому необходимо следовать скептическому логическому методу, описанному Декартом, и не следует чрезмерно полагаться на здравый смысл. [8] В последующем Просвещении XVIII века здравый смысл стал рассматриваться более позитивно как основа для эмпирического современного мышления. Он противопоставлялся метафизике , которая, как и картезианство , ассоциировалась со Старым режимом . Полемический памфлет Томаса Пейна «Здравый смысл» (1776) был описан как самый влиятельный политический памфлет XVIII века, повлиявший как на Американскую , так и на Французскую революции . [3] Сегодня концепция здравого смысла и то, как ее лучше всего использовать, остается связанной со многими из самых вечных тем в эпистемологии и этике , при этом особое внимание часто уделяется философии современных социальных наук .

Термин «здравый смысл» берет свое начало в трудах Аристотеля. Хеллер-Роазен (2008) пишет, что «по-разному философы средневековой латинской и арабской традиции, от Аль-Фараби до Авиценны , Аверроэса , Альберта и Томаса , находили в De Anima и Parva Naturalia разрозненные элементы связной доктрины «центральной» способности чувственной души». [9] Это было «одно из самых успешных и устойчивых понятий Аристотеля». [10]
Самый известный случай — De Anima Book III, глава 1, особенно строка 425a27. [11] В этом отрывке речь идет о том, как животный разум преобразует сырые чувственные восприятия из пяти специализированных чувственных восприятий в восприятия реальных вещей, движущихся и изменяющихся, о которых можно думать. Согласно пониманию восприятия Аристотелем, каждое из пяти чувств воспринимает один тип «воспринимаемого» или «чувственного», который является специфическим ( ἴδια , idia ) для него. Например, зрение может видеть цвет. Но Аристотель объяснял, как животный разум, а не только человеческий разум, связывает и классифицирует различные вкусы, цвета, чувства, запахи и звуки, чтобы воспринимать реальные вещи в терминах «общих чувственных восприятий» (или «общих воспринимаемых»). В этом обсуждении «общий» ( κοινή , koiné ) — это термин, противоположный конкретному или частному ( idia ). По-гречески эти общие чувственные вещи называются tá koiná ( τά κοινᾰ́ ), что означает общие или общие вещи, и примеры включают единство каждой вещи с ее определенной формой и размером и т. д., а также изменение или движение каждой вещи. [12] Отдельные комбинации этих свойств являются общими для всех воспринимаемых вещей. [13]
В этом отрывке Аристотель объяснил, что относительно этих койн (таких как движение) у людей есть чувство — «здравый смысл» или чувство обычных вещей ( aísthēsis koinḕ ) — и нет никакого особого ( idéā ) чувственного восприятия для движения и других койн , потому что тогда мы вообще не воспринимали бы койн , кроме как случайно ( κᾰτᾰ́ σῠμβεβηκός , katá sumbebēkós ). В качестве примеров восприятия случайно Аристотель упоминает использование особого чувственного восприятия зрения самого по себе, чтобы попытаться увидеть, что что-то сладкое, или попытаться узнать друга только по его отличительному цвету. Ли (2011, стр. 31) объясняет, что «когда я вижу Сократа, он виден моему глазу не потому, что он Сократ, а потому, что он цветной». Таким образом, согласно Аристотелю (и Платону), обычные пять отдельных чувств воспринимают общие воспринимаемые объекты, но это не то, что они обязательно правильно интерпретируют сами по себе. Аристотель предполагает, что причина наличия нескольких чувств на самом деле заключается в том, что это увеличивает шансы на то, что мы можем различать и распознавать вещи правильно, а не просто время от времени или случайно. [14] Каждое чувство используется для определения различий, например, зрение определяет разницу между черным и белым, но, говорит Аристотель, все животные с восприятием должны иметь «что-то одно», что может отличать черное от сладкого. [15] Здравый смысл — это то место, где происходит это сравнение, и это должно происходить путем сравнения впечатлений (или символов, или маркеров; σημεῖον , sēmeîon , 'знак, отметка') того, что восприняли специальные чувства. [16] Здравый смысл, следовательно, также является местом, где возникает тип сознания , "ибо он заставляет нас осознавать наличие ощущений вообще". И он получает физические отпечатки изображений от воображаемой способности, которые затем являются воспоминаниями, которые можно вспомнить. [17]
Дискуссия, по-видимому, была направлена на улучшение рассказа друга и учителя Аристотеля Платона в его сократическом диалоге «Теэтет » . [18] Но диалог Платона представил аргумент о том, что распознавание койны является активным мыслительным процессом в рациональной части человеческой души, делающим чувства инструментами мыслящей части человека. Сократ Платона говорит, что этот вид мышления вообще не является видом чувства. Аристотель, пытаясь дать более общее описание душ всех животных, а не только людей, переместил акт восприятия из рационально мыслящей души в это sensus communis , которое является чем-то вроде чувства и чем-то вроде мышления, но не рационально. [19]

Этот отрывок трудно интерпретировать, и нет единого мнения о деталях. [20] Грегорич (2007, стр. 204–205) утверждал, что это может быть связано с тем, что Аристотель вообще не использовал этот термин как стандартизированный технический термин. Например, в некоторых отрывках своих работ Аристотель, по-видимому, использует этот термин для обозначения индивидуальных чувственных восприятий, которые просто являются общими для всех людей или общими для различных типов животных. Также существует трудность в попытке определить, действительно ли общий смысл отделим от индивидуальных чувственных восприятий и от воображения, чем-либо иным, кроме как концептуальным образом как способность. Аристотель никогда полностью не излагает связь между общим смыслом и способностью к воображению ( φᾰντᾰσῐ́ᾱ , phantasíā ), хотя эти два понятия явно работают вместе у животных, а не только у людей, например, для того, чтобы обеспечить восприятие времени. Они даже могут быть одним и тем же. [17] [19] Несмотря на намеки самого Аристотеля на то, что они были объединены, ранние комментаторы, такие как Александр Афродисийский и Аль-Фараби, считали, что они были различны, но позже Авиценна подчеркнул связь, повлияв на будущих авторов, включая христианских философов. [21] [22] Грегорич (2007, стр. 205) утверждает, что Аристотель использовал термин «здравый смысл» как для обсуждения индивидуальных чувств, когда они действуют как единство, которое Грегорич называет «перцептивной способностью души», так и более высокого уровня «сенсорной способностью души», который представляет чувства и воображение, работающие как единство. По словам Грегорича, по-видимому, произошла стандартизация термина koinḕ aísthēsis как термина для перцептивной способности (а не более высокого уровня сенсорной способности), что произошло самое позднее ко времени Александра Афродисийского. [23]
По сравнению с Платоном, понимание души ( psūkhḗ ) Аристотелем имеет дополнительный уровень сложности в форме noûs или «интеллекта», который есть только у людей и позволяет людям воспринимать вещи иначе, чем у других животных. Он работает с образами, исходящими из здравого смысла и воображения, используя рассуждение ( λόγος , lógos ), а также активный интеллект . Noûs определяет истинные формы вещей , в то время как здравый смысл определяет общие аспекты вещей. Хотя ученые по-разному интерпретируют детали, «здравый смысл» Аристотеля в любом случае не был рациональным, в том смысле, что он не подразумевал никакой способности объяснить восприятие. Разум или рациональность ( lógos ) существуют только у человека, согласно Аристотелю, и все же некоторые животные могут воспринимать «общие воспринимаемые вещи», такие как изменение и форма, а некоторые даже обладают воображением, согласно Аристотелю. Животные с воображением ближе всего подходят к тому, чтобы иметь что-то вроде рассуждения и noûs . [24] Платон, с другой стороны, по-видимому, был готов допустить, что животные могут иметь некоторый уровень мышления, а это значит, что ему не нужно было объяснять их иногда сложное поведение строгим разделением между высокоуровневой обработкой восприятия и человеческим мышлением, таким как способность формировать мнения. [25] Грегорич дополнительно утверждает, что Аристотеля можно интерпретировать как использование глаголов phroneîn и noeîn для различения двух типов мышления или осознания, первый из которых встречается у животных, а второй уникален для людей и включает разум. [26] Таким образом, у Аристотеля (и средневековых аристотеликов) универсалии, используемые для идентификации и категоризации вещей, делятся на две части. В средневековой терминологии это виды sensibilis, используемые для восприятия и воображения у животных, и виды intelligibilis или воспринимаемые формы, используемые в человеческом интеллекте или noûs .
Аристотель также иногда называл koinḕ aísthēsis (или одну из его версий) proton aisthētikón ( πρῶτον αἰσθητῐκόν , букв. ' 'первый из чувств' ' ). (По словам Грегорича, это особенно актуально в контекстах, где оно относится к высшему порядку здравого смысла, включающему воображение.) Более поздние философы, развивающие эту линию мысли, такие как Фемистий , Гален и Аль-Фараби, называли его правителем чувств или правящим чувством, по-видимому, метафора, разработанная из раздела платоновского « Тимея » (70b). [22] Августин и некоторые арабские писатели также называли его «внутренним чувством». [21] Концепция внутренних чувств, во множественном числе, получила дальнейшее развитие в Средние века . Под влиянием великих персидских философов Аль-Фараби и Авиценны было перечислено несколько внутренних чувств. «Фома Аквинский и Иоанн из Джандуна признавали четыре внутренних чувства: здравый смысл, воображение , vis cogitativa и память. Авиценна, за которым следовали Роберт Гроссетест , Альберт Великий и Роджер Бэкон , утверждали о пяти внутренних чувствах: здравый смысл, воображение, фантазия, vis aestimativa и память». [27] Ко времени Декарта и Гоббса , в 1600-х годах, внутренние чувства были стандартизированы до пяти умов , которые дополняли более известные пять «внешних» чувств. [21] Согласно этой средневековой схеме, здравый смысл понимался как находящийся не в сердце, как думал Аристотель, а в переднем галеновом желудочке мозга. Анатом Андреас Везалий не обнаружил связей между передним желудочком и чувствительными нервами, что привело к предположениям о других частях мозга в 1600-х годах. [28]

« Sensus communis » — это латинский перевод греческого koinḕ aísthēsis , который был восстановлен средневековыми схоластами при обсуждении аристотелевских теорий восприятия. В ранней латыни Римской империи термин принял отчетливое этическое отклонение, развивая новые оттенки значения. Эти особенно римские значения, по-видимому, находились под влиянием нескольких стоических греческих терминов со словом koinḗ ( κοινή , 'общий, разделенный'); не только koinḕ aísthēsis , но и такие термины, как koinós noûs ( κοινός νοῦς , «общий разум/мысль/разум»), koinḗ énnoia ( κοινή ἔννοιᾰ ) и koinonoēmosúnē , все из которых включают noûs — нечто, по крайней мере, по Аристотелю, чего не было бы у «низших» животных. [29]
Другая связь между латинским communis sensus и греческим Аристотелем была в риторике , предмете, который Аристотель был первым, кто систематизировал. В риторике благоразумный оратор должен принимать во внимание мнения ( δόξαι , dóxai ), которые широко распространены. [32] Аристотель называл такие общепринятые убеждения не koinaí dóxai ( κοιναί δόξαι , букв. ' 'общие мнения' ' ), что является термином, который он использовал для самоочевидных логических аксиом, а другими терминами, такими как éndóxa ( ἔνδόξα ).
Например, в своей «Риторике» Аристотель упоминает « koinōn [...] tàs písteis » или «общие верования», говоря, что «наши доказательства и аргументы должны основываться на общепринятых принципах, [...] когда речь идет о разговоре с толпой». [33] В похожем отрывке из своей собственной работы по риторике « De Oratore » Цицерон писал, что «в ораторском искусстве самым главным грехом является отход от языка повседневной жизни и обычаев, одобренных чувством сообщества». Чувство сообщества в данном случае является одним из переводов « communis sensus » на латынь Цицерона. [34] [35]
Поэтому остается предметом обсуждения, намеренно ли латинские авторы, такие как Цицерон, использовали этот аристотелевский термин новым, более специфически римским способом, вероятно, также под влиянием греческого стоицизма. Шеффер (1990, стр. 112) предположил, например, что Римская республика поддерживала очень «устную» культуру, тогда как во времена Аристотеля риторика подвергалась жесткой критике со стороны таких философов, как Сократ. Питерс Агню (2008) утверждает, соглашаясь с Шефтсбери, что эта концепция развилась из стоической концепции этической добродетели, на которую повлиял Аристотель, но подчеркивая роль как индивидуального восприятия, так и общего общественного понимания. Но в любом случае к этому термину прикрепился комплекс идей, который был почти забыт в Средние века и в конечном итоге вернулся в этическую дискуссию в Европе XVIII века после Декарта.
Как и в случае с другими значениями здравого смысла, для римлян классической эпохи «он обозначает чувствительность, разделяемую всеми, из которой можно вывести ряд фундаментальных суждений, которые не должны или не могут быть подвергнуты сомнению посредством рационального размышления». [36] Но даже несмотря на то, что Цицерон по крайней мере один раз использовал этот термин в рукописи по « Тимею» Платона (относительно изначального «чувства, единого и общего для всех [...], связанного с природой»), он и другие римские авторы обычно не использовали его как технический термин, ограниченный обсуждением чувственного восприятия, как, по-видимому, делал Аристотель в « De Anima» и как позже схоласты в Средние века. [37] Вместо того, чтобы ссылаться на все суждения животных, он использовался для описания дорациональных, широко распространенных человеческих верований, и поэтому он был почти эквивалентом концепции humanitas . Это был термин, который римляне могли использовать, чтобы подразумевать не только человеческую природу , но и гуманное поведение, хорошее воспитание, изысканные манеры и так далее. [38] Помимо Цицерона, Квинтилиан , Лукреций , Сенека , Гораций и некоторые из наиболее влиятельных римских авторов, на которых оказали влияние риторика и философия Аристотеля, использовали латинский термин « sensus communis » в различных смыслах. [39] Как писал К. С. Льюис :
Квинтилиан говорит, что лучше отправить мальчика в школу, чем иметь для него частного учителя дома; ибо если его держать вдали от стада ( congressus ), как он когда-либо научится тому sensus , который мы называем communis ? (I, ii, 20). На самом низком уровне это означает такт. У Горация человек, который разговаривает с вами, когда вы явно не хотите говорить, лишен communis sensus . [40]
По сравнению с Аристотелем и его самыми строгими средневековыми последователями, эти римские авторы не были столь строги в отношении границы между животным здравым смыслом и сугубо человеческим рассуждением. Как обсуждалось выше, Аристотель пытался провести четкое различие между, с одной стороны, воображением и чувственным восприятием, которые оба используют чувственную койну , и которые также есть у животных; и, с другой стороны, нусом (интеллектом) и разумом, который воспринимает другой тип койны , интеллигибельные формы, которые (согласно Аристотелю) есть только у людей. Другими словами, эти римляне допускали, что люди могут иметь животные общие понимания реальности, не только с точки зрения воспоминаний о чувственных восприятиях, но и с точки зрения того, как они будут стремиться объяснять вещи, и на языке, который они используют. [41]
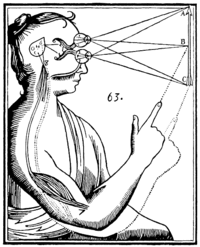
Одним из последних выдающихся философов, принявших нечто вроде аристотелевского «здравого смысла», был Декарт в 17 веке, но он также подорвал его. Он описал эту внутреннюю способность, когда писал на латыни в своих «Размышлениях о первой философии» . [42] Здравый смысл — это связь между телом и его чувствами, и истинным человеческим разумом, который, по Декарту, должен быть чисто нематериальным. В отличие от Аристотеля, который поместил его в сердце, ко времени Декарта эта способность считалась находящейся в мозге, и он помещал ее в шишковидную железу . [43] Суждение Декарта об этом здравом смысле состояло в том, что его было достаточно, чтобы убедить человеческое сознание в существовании физических вещей, но часто очень нечетким образом. Чтобы получить более отчетливое понимание вещей, важнее быть методичным и математическим. [44] Эта линия мысли была развита дальше, если не самим Декартом, то теми, на кого он оказал влияние, пока сама концепция способности или органа здравого смысла не была отвергнута.
Рене Декарту обычно приписывают то, что он сделал устаревшим представление о том, что в человеческом мозге есть реальная способность, которая функционирует как sensus communis . Французский философ не полностью отверг идею внутренних чувств, которую он заимствовал у схоластов . Но он дистанцировался от аристотелевской концепции общей способности чувства, полностью отказавшись от нее ко времени своих «Страстей души» (1649). [45]
Такие современники, как Гассенди и Гоббс, в некотором смысле превзошли Декарта в своем отрицании аристотелизма, отвергая объяснения, включающие что-либо иное, чем материя и движение, включая различие между животным суждением чувственного восприятия, особым отдельным здравым смыслом и человеческим разумом или noûs , которое Декарт сохранил из аристотелизма. [46] В отличие от Декарта, который «считал неприемлемым предполагать, что чувственные представления могут проникать в ментальную сферу извне»...
По Гоббсу [...] человек ничем не отличается от других животных. [...] Философия Гоббса представляла собой более глубокий разрыв с перипатетическим мышлением. Он принимал ментальные представления, но [...] «Всякий смысл есть фантазия», как выразился Гоббс, за исключением лишь протяженности и движения. [47]

Но Декарт использовал два разных термина в своей работе, не только латинский термин « sensus communis », но и французский термин bon sens , с которого он начинает свое «Рассуждение о методе» . И эта вторая концепция сохранилась лучше. Эта работа была написана на французском языке и не обсуждает напрямую аристотелевскую техническую теорию восприятия. Bon sens является эквивалентом современного английского «здравого смысла» или «хорошего смысла». Поскольку аристотелевское значение латинского термина стало забываться после Декарта, его обсуждение bon sens дало новый способ определения sensus communis в различных европейских языках (включая латынь, хотя сам Декарт не переводил bon sens как sensus communis , а рассматривал их как две отдельные вещи). [48]
Шеффер (1990, стр. 2) пишет, что «Декарт является источником наиболее распространенного значения здравого смысла сегодня: практического суждения». Жильсон отметил, что Декарт на самом деле дал bon sens два связанных значения, во-первых, базовую и широко распространенную способность судить об истинном и ложном, которую он также называет raison ( букв. ' 'разум' ' ); и, во-вторых, мудрость, усовершенствованную версию первого. Латинский термин, который использует Декарт, bona mens ( букв. ' 'хороший ум' ' ), происходит от автора-стоика Сенеки , который использовал его только во втором значении. Декарт был оригинален. [49]
Идея, которая теперь стала влиятельной, развитая как в латинских, так и во французских работах Декарта, хотя и пришедшая с разных направлений, заключается в том, что здравый смысл (и действительно чувственное восприятие) недостаточно надежен для нового картезианского метода скептического рассуждения. [50] Картезианский проект замены здравого смысла четко определенным математическим рассуждением был нацелен на определенность, а не просто на вероятность. Он был далее продвинут такими людьми, как Гоббс, Спиноза и другие, и продолжает оказывать важное влияние на повседневную жизнь. Во Франции, Нидерландах, Бельгии, Испании и Италии он был в своем первоначальном расцвете, связанном с управлением католическими империями конкурирующих династий Бурбонов и Габсбургов , обе из которых стремились централизовать свою власть современным способом, отвечая на макиавеллизм и протестантизм как часть Контрреформации . [ 51]
Картезианская теория предлагала обоснование инновационных социальных изменений, достигаемых посредством судов и администрации, способность адаптировать закон к изменяющимся социальным условиям, делая основу законодательства «рациональной», а не «традиционной». [52]
Поэтому после Декарта критическое внимание переключилось с Аристотеля и его теории восприятия на собственную трактовку Декартом здравого смысла, в отношении которой несколько авторов XVIII века нашли помощь в римской литературе.
В эпоху Просвещения настойчивость Декарта в отношении метода мышления в математическом стиле, который скептически относился к здравому смыслу и чувственному восприятию, была принята в некоторых отношениях, но также и подвергнута критике. С одной стороны, подход Декарта является и считался радикально скептическим в некоторых отношениях. С другой стороны, как и схоласты до него, хотя и с осторожностью относились к здравому смыслу, Декарт вместо этого считался слишком полагающимся на недоказуемые метафизические предположения, чтобы оправдать свой метод, особенно в его разделении разума и тела (с sensus communis, связывающим их). Картезианцы, такие как Генрих Региус , Жеро де Кордемуа и Николя Мальбранш, понимали, что логика Декарта вообще не могла дать никаких доказательств «внешнего мира», а значит, ее нужно было принимать на веру. [53] Хотя его собственное предложенное решение было еще более спорным, Беркли написал, что просвещение требует «бунта от метафизических представлений к простым диктатам природы и здравого смысла». [54] Декарт и картезианские « рационалисты » отвергли опору на опыт, чувства и индуктивное рассуждение и, казалось, настаивали на возможности определенности. Альтернатива индукции, дедуктивное рассуждение, требовало математического подхода, начинающегося с простых и определенных предположений. Это, в свою очередь, потребовало от Декарта (и более поздних рационалистов, таких как Кант) предположить существование врожденного или « априорного » знания в человеческом разуме — спорное предложение.
В отличие от рационалистов, « эмпирики » взяли свою ориентацию от Фрэнсиса Бэкона , чьи аргументы в пользу методической науки были более ранними, чем у Декарта, и менее направленными на математику и определенность. Бэкон известен своей доктриной « идолов разума », представленной в его Novum Organum , и в своих Essays описал нормальное человеческое мышление как предвзятое к вере в ложь. [55] Но он также был противником всех метафизических объяснений природы или чрезмерной спекуляции в целом и сторонником науки, основанной на небольших шагах опыта, экспериментирования и методической индукции. Поэтому, соглашаясь с необходимостью помогать здравому смыслу с методическим подходом, он также настаивал на том, что начинать со здравого смысла, включая особенно восприятие здравого смысла, было приемлемо и правильно. Он оказал влияние на Локка и Пьера Бейля , в их критике метафизики, а в 1733 году Вольтер «представил его французской аудитории как «отца» научного метода », понимание, которое было широко распространено к 1750 году. Вместе с этим ссылки на «здравый смысл» стали положительными и ассоциировались с современностью, в отличие от отрицательных ссылок на метафизику, которая ассоциировалась со Старым режимом . [3]
Как упоминалось выше, в терминах более общих эпистемологических последствий здравого смысла современная философия пришла к использованию термина «здравый смысл», как Декарт, отказавшись от теории Аристотеля. В то время как Декарт дистанцировался от него, Джон Локк отказался от него более открыто, при этом все еще сохраняя идею «общих чувственных вещей», которые воспринимаются. Но затем Джордж Беркли отказался от обоих. [45] Дэвид Юм согласился с Беркли в этом, и, как Локк и Вико, считал себя больше последователем Бэкона, чем Декарта. В своем синтезе, который он считал первым бэконовским анализом человека (что менее известный Вико утверждал ранее), здравый смысл полностью построен на общем опыте и общих врожденных эмоциях, и поэтому он действительно несовершенен как основа для любой попытки познать истину или принять наилучшее решение. Но он защищал возможность науки без абсолютной уверенности и последовательно описывал здравый смысл как дающий обоснованный ответ на вызов крайнего скептицизма . Относительно таких скептиков он писал:
Но пусть эти предвзятые рассудители задумаются на мгновение, ведь есть много очевидных примеров и аргументов, достаточных, чтобы разубедить их и заставить их расширить свои максимы и принципы. Разве они не видят огромного разнообразия наклонностей и стремлений среди нашего вида; где каждый человек, кажется, полностью удовлетворен своим собственным образом жизни и сочли бы величайшим несчастьем быть ограниченным образом жизни своего соседа? Разве они не чувствуют в себе, что то, что нравится в одно время, не нравится в другое время, из-за изменения наклонности; и что не в их власти, приложив все усилия, вернуть тот вкус или аппетит, который прежде придавал очарование тому, что теперь кажется безразличным или неприятным? [...] Вы приходите к философу, как к хитрому человеку, чтобы узнать что-то с помощью магии или колдовства, сверх того, что можно познать с помощью обычного благоразумия и рассудительности? [56]

После того, как Томас Гоббс и Спиноза применили картезианские подходы к политической философии , возросли опасения по поводу бесчеловечности дедуктивного подхода Декарта. Имея это в виду, Шефтсбери и Джамбаттиста Вико представили новые аргументы в пользу важности римского понимания здравого смысла, в том, что теперь часто называют, вслед за Гансом-Георгом Гадамером , гуманистической интерпретацией термина. [57] Их опасения имели несколько взаимосвязанных аспектов. Одной этической проблемой был намеренно упрощенный метод, который рассматривал человеческие сообщества как состоящие из эгоистичных независимых индивидов ( методологический индивидуализм ), игнорируя чувство общности , которое римляне понимали как часть здравого смысла. Другая связанная эпистемологическая проблема заключалась в том, что, рассматривая здравый смысл как изначально подчиненный картезианским выводам, разработанным из простых предположений, важный тип мудрости высокомерно игнорировался.
Основополагающее эссе графа 1709 года Sensus Communis: эссе о свободе остроумия и юмора было весьма эрудированной и влиятельной защитой использования иронии и юмора в серьезных дискуссиях, по крайней мере, среди людей «хорошего воспитания». Он опирался на таких авторов, как Сенека , Ювенал , Гораций и Марк Аврелий , для которых, как он видел, здравый смысл был не просто ссылкой на широко распространенные вульгарные мнения, но чем-то, что культивировалось среди образованных людей, живущих в лучших сообществах. Одним из аспектов этого, позже подхваченным такими авторами, как Кант, был хороший вкус. Другим очень важным аспектом здравого смысла, особенно интересным для более поздних британских политических философов, таких как Фрэнсис Хатчесон, было то, что стало называться моральным чувством , которое отличается от племенного или фракционного чувства, но является более общим товарищеским чувством, которое очень важно для более крупных сообществ:
Общественный Дух может исходить только из общественного Чувства или Ощущения Партнерства с Человеческим Родом. Теперь нет никого столь далекого от того, чтобы быть Партнерами в этом Смысле или разделителями этой общей Привязанности , как те, кто едва знает Равного и не считает себя подчиненным какому-либо закону Товарищества или Сообщества . И таким образом Мораль и Хорошее Правительство идут рука об руку. [58]
Хатчесон описал его как «общественное чувство, а именно: «наша решимость радоваться счастью других и беспокоиться об их несчастье»», которое, как он объясняет, «иногда называлось κοινονοημοσύνη [59] или Sensus Communis некоторыми Древними» [60] .
Реакция на Шефтсбери в защиту гоббсовской точки зрения на сообщества, движимые индивидуальными интересами, не заставила себя долго ждать в противоречивых работах Бернарда Мандевиля . Действительно, этот подход никогда полностью не отвергался, по крайней мере в экономике. И поэтому, несмотря на критику, обрушившуюся на Мандевиля и Гоббса со стороны Адама Смита, ученика и последователя Хатчесона в Университете Глазго, Смит сделал личный интерес основным предположением в зарождающейся современной экономике, в частности, как часть практического обоснования разрешения свободных рынков.
К позднему периоду Просвещения в XVIII веке общественное чувство стало «нравственным чувством» или « моральным чувством », на которое ссылались Юм и Адам Смит , причем последний писал во множественном числе о «нравственных чувствах», при этом ключевым словом была симпатия , которая была не столько общественным духом как таковым, сколько своего рода расширением личного интереса. Джереми Бентам дает резюме множества терминов, используемых в британской философии к девятнадцатому веку для описания здравого смысла в дискуссиях об этике:
Другой человек приходит и изменяет фразу: опускает мораль и вставляет вместо нее общее . Затем он говорит вам, что его здравый смысл учит его, что правильно, а что нет, так же верно, как и моральное чувство другого: подразумевая под здравым смыслом чувство того или иного рода, которым, как он говорит, обладает все человечество: чувство тех, чье чувство не совпадает с чувством автора, вычеркивается из рассмотрения как не стоящее внимания. [61]
Это, по крайней мере, в некоторой степени противоречило подходу Гоббса, который до сих пор является нормой в экономической теории, пытаясь понять все человеческое поведение как фундаментально эгоистичное, и также было бы фоном для новой этики Канта. Это понимание морального чувства или общественного духа остается предметом для обсуждения, хотя термин «здравый смысл» больше не используется обычно для самого чувства. [62] В нескольких европейских языках используется отдельный термин для этого типа здравого смысла. Например, французское sens commun и немецкое Gemeinsinn используются для этого чувства человеческой солидарности, в то время как bon sens (здравый смысл) и gesunder Verstand (здоровое понимание) являются терминами для повседневного «здравого смысла».
Согласно Гадамеру, по крайней мере во французской и британской философии моральный элемент в апелляциях к здравому смыслу (или bon sens ), такой как у Рида, остаётся нормой и по сей день. [63] Но, согласно Гадамеру, гражданское качество, подразумеваемое при обсуждении sensus communis в других европейских странах, не укоренилось в немецкой философии XVIII и XIX веков, несмотря на то, что она сознательно имитировала многое в английской и французской философии. « Sensus communis понималось как чисто теоретическое суждение, параллельное моральному сознанию ( совести ) и вкусу ». [64] Понятие sensus communis «было опустошено и интеллектуализировано немецким Просвещением». [65] Но в это же время немецкая философия становилась всемирно значимой.
Гадамер отмечает одно менее известное исключение — вюртембергский пиетизм , вдохновлённый швабским церковником XVIII века М. Фридрихом Кристофом Этингером , который апеллировал к деятелям Просвещения в своей критике картезианского рационализма Лейбница и Вольфа , которые были важнейшими немецкими философами до Канта. [66]

Вико, преподававший классическую риторику в Неаполе (где умер Шефтсбери) при испанском правительстве, находившемся под влиянием картезианства, не был широко читаем до 20-го века, но его труды о здравом смысле оказали важное влияние на Ганса-Георга Гадамера, Бенедетто Кроче и Антонио Грамши . [29] Вико объединил римское и греческое значения термина communis sensus . [67] Первоначальное использование Вико этого термина, которое, например, во многом вдохновило Гадамера, появляется в его работе « О методах обучения нашего времени» , которая отчасти была защитой его собственной профессии, учитывая реформистское давление как на его университет, так и на правовую систему в Неаполе. Она представляет здравый смысл как то, чему нужно обучать подростков, если они не хотят «впасть в странное и высокомерное поведение, когда достигнут зрелости», в то время как преподавание картезианского метода само по себе вредит здравому смыслу и тормозит интеллектуальное развитие. Риторика и красноречие предназначены не только для юридических дебатов, но и для обучения молодых людей использовать свои чувственные восприятия и свои восприятия более широко, создавая фонд запоминающихся образов в своем воображении, а затем используя изобретательность в создании связующих метафор, чтобы создавать энтимемы . Энтимемы — это рассуждения о неопределенных истинах и вероятностях — в отличие от картезианского метода, который скептически относился ко всему, с чем нельзя было справиться как с силлогизмами , включая сырые восприятия физических тел. Следовательно, здравый смысл — это не просто «руководящий стандарт красноречия », но и «стандарт практического суждения ». Воображение или фантазия, которые в традиционном аристотелизме часто приравнивались к koinḕ aísthēsis , развиваются в ходе этой тренировки, становясь «фондом» (используя термин Шеффера), принимающим не только воспоминания о вещах, увиденных отдельным человеком, но также метафоры и образы, известные в сообществе, включая те, из которых состоит сам язык. [68]
В своей зрелой версии концепция Вико sensus communis определяется им как «суждение без размышления, разделяемое целым классом, целым народом и целой нацией или всей человеческой расой». Вико предложил собственную антикартезианскую методологию для новой бэконовской науки, вдохновленной, как он сказал, Платоном , Тацитом , [ 69] Фрэнсисом Бэконом и Гроцием . В этом он пошел дальше своих предшественников относительно древних определенностей, доступных в вульгарном здравом смысле. Согласно его новой науке, требуется найти здравый смысл, разделяемый разными людьми и народами. Он сделал это основой для нового и более обоснованного подхода к обсуждению Естественного права , превзойдя Гроция, Джона Селдена и Пуфендорфа, которых, как он чувствовал, не удалось убедить, потому что они не могли претендовать на авторитет от природы. В отличие от Гроция, Вико вышел за рамки поиска одного единственного набора сходств среди наций, но также установил правила о том, как естественный закон должным образом изменяется по мере изменения народов, и должен оцениваться относительно этого состояния развития. Таким образом, он разработал детальный взгляд на развивающуюся мудрость народов. Древние забытые мудрости, утверждал он, могут быть заново открыты путем анализа языков и мифов, сформированных под их влиянием. [70] Это сопоставимо как с « Духом законов » Монтескье , так и с гораздо более поздним гегелевским историцизмом , оба из которых, по-видимому, развивались без какого-либо осознания работы Вико. [71]

Современно Юму, но критически относясь к его скептицизму, сформировалась так называемая шотландская школа здравого смысла , основной принцип которой был сформулирован ее основателем и величайшей фигурой Томасом Ридом :
Если существуют определенные принципы, как я думаю, в которые нас заставляет верить наша натура, и которые мы вынуждены принимать как должное в обычных жизненных вопросах, не будучи в состоянии дать им обоснование, — это то, что мы называем принципами здравого смысла; а то, что явно противоречит им, мы называем абсурдом. [72]
Томас Рид был преемником Фрэнсиса Хатчесона и Адама Смита на посту профессора моральной философии в Глазго . Хотя интересы Рида лежали в защите здравого смысла как типа самоочевидного знания, доступного отдельным людям, это также было частью защиты естественного права в стиле Гроция. Он считал, что его использование «здравого смысла» охватывало как коллективный здравый смысл, описанный Шефтсбери и Хатчесоном, так и перцептивные способности, описанные аристотелианцами.
Рид был подвергнут критике, отчасти за его критику Юма, Кантом и Дж. С. Миллем , которые были двумя из самых влиятельных фигур в философии девятнадцатого века. Его обвиняли в преувеличении скептицизма Юма в отношении общепринятых убеждений и, что еще важнее, в невосприятии проблемы с любым утверждением, что здравый смысл может когда-либо удовлетворить картезианские (или кантовские) требования к абсолютному знанию. Рид также подчеркивал врожденный здравый смысл в противовес только опыту и чувственному восприятию. Таким образом, его здравый смысл имеет сходство с утверждением априорного знания, утверждаемым рационалистами, такими как Декарт и Кант, несмотря на критику Ридом Декарта относительно его теории идей. Юм критиковал Рида в этом вопросе.
Несмотря на критику, влияние шотландской школы было заметным, например, на американский прагматизм и современный томизм . Влияние было особенно важным в отношении эпистемологической важности sensus communis для любой возможности рациональной дискуссии между людьми.

Иммануил Кант разработал новый вариант идеи sensus communis , отметив, что восприимчивость к широко распространенным и понятным мнениям дает своего рода стандарт для суждения и объективного обсуждения, по крайней мере, в области эстетики и вкуса:
Общее понимание людей [ gemeine Menschenverstand ], которое, как простое (еще не культивированное) понимание, мы считаем наименее ожидаемым от любого, кто претендует на имя человека, имеет поэтому сомнительную честь быть названным здравым смыслом [ Namen des Gemeinsinnes ] ( sensus communis ); и таким образом, что под именем общий (не только в нашем языке, где это слово фактически имеет двойное значение, но и во многих других) мы понимаем вульгарный, то, что встречается повсюду, обладание которым не указывает абсолютно ни на какие заслуги или превосходства. Но под sensus communis мы должны включить идею общего смысла [ eines gemeinschaftlichen Sinnes ], т. е. способности суждения, которая в своем размышлении учитывает ( a priori ) способ представления всех других людей в мышлении; для того, чтобы как бы сравнить свое суждение с коллективным Разумом человечества и таким образом избежать иллюзии, возникающей из частных условий, которые так легко можно было бы принять за объективные, что пагубно повлияло бы на суждение. [73]
Кант рассматривал эту концепцию как ответ на особую потребность в своей системе: «вопрос о том, почему эстетические суждения обоснованы: поскольку эстетические суждения являются совершенно нормальной функцией тех же познавательных способностей, которые задействованы в обычном познании, они будут иметь ту же самую универсальную обоснованность, что и такие обычные акты познания». [74]
Но общий подход Канта сильно отличался от подходов Юма или Вико. Как и Декарт, он отверг призывы к неопределенному чувственному восприятию и здравому смыслу (за исключением очень специфического способа, который он описывает в отношении эстетики), или предрассудки своего « мировоззрения », и пытался дать новый путь к определенности через методическую логику и предположение о типе априорного знания. Он также не был согласен с Ридом и шотландской школой, которых он критиковал в своих «Пролегоменах ко всякой будущей метафизике » за то, что они использовали «волшебную палочку здравого смысла» и не сталкивались должным образом с «метафизической» проблемой, определенной Юмом, которую Кант хотел решить научно — проблемой того, как использовать разум для рассмотрения того, как следует действовать.
Кант использовал разные слова для обозначения своего эстетического sensus communis , для которого он использовал латинское или немецкое Gemeinsinn , а также более общее английское значение, которое он связывал с Ридом и его последователями, для которого он использовал различные термины, такие как gemeinen Menscheverstand , gesunden Verstand или gemeinen Verstand . [75]
По словам Гадамера, в отличие от «богатства смысла», привнесенного из римской традиции в гуманизм, Кант «развил свою моральную философию в явной оппозиции к учению о «моральном чувстве», которое было разработано в английской философии». Моральный императив «не может быть основан на чувстве, даже если имеется в виду не чувство отдельного человека, а общая моральная чувствительность». [76] Для Канта sensus communis применялся только к вкусу, и значение вкуса также было сужено, поскольку он больше не понимался как какой-либо вид знания. [77] Вкус, по Канту, универсален только в том смысле, что он является результатом «свободной игры всех наших познавательных способностей», и является общим только в том смысле, что он «абстрагируется от всех субъективных, частных условий, таких как привлекательность и эмоция». [78]
Сам Кант не считал себя релятивистом и стремился дать знанию более прочную основу, но, как замечает Ричард Дж. Бернстайн , рассматривая эту же критику Гадамера:
Как только мы начинаем сомневаться в существовании общей способности вкуса ( sensus communis ), мы легко скатываемся к релятивизму . И это то, что произошло после Канта — настолько, что сегодня чрезвычайно трудно восстановить какую-либо идею вкуса или эстетического суждения, которая была бы чем-то большим, чем выражение личных предпочтений. По иронии судьбы (учитывая намерения Канта), та же тенденция проявилась с удвоенной силой в отношении всех суждений о ценности, включая моральные суждения. [79]
Продолжая традицию Рида и просвещения в целом, здравый смысл людей, пытающихся понять реальность, продолжает оставаться серьезным предметом философии. В Америке Рид оказал влияние на К. С. Пирса , основателя философского движения, ныне известного как прагматизм , которое стало влиятельным на международном уровне. Одним из названий, которые Пирс использовал для этого движения, было «критический здравый смысл». Пирс, писавший после Чарльза Дарвина , предположил, что идеи Рида и Канта о врожденном здравом смысле могут быть объяснены эволюцией. Но хотя такие убеждения могли быть хорошо адаптированы к примитивным условиям, они не были непогрешимыми и на них не всегда можно было положиться.
Другой пример, который до сих пор остается влиятельным, исходит от GE Moore , несколько эссе которого, например, 1925 года « Защита здравого смысла », утверждали, что индивиды могут делать много типов утверждений о том, что они считают истинным, и что индивид и все остальные знают, что это правда. Майкл Хьюмер отстаивал эпистемическую теорию, которую он называет феноменальным консерватизмом , которая, как он утверждает, согласуется со здравым смыслом посредством интерналистской интуиции . [80]
В философии двадцатого века концепция sensus communis , обсуждаемая Вико и особенно Кантом, стала главной темой философских дискуссий. Тема этой дискуссии задается вопросом, насколько понимание красноречивой риторической дискуссии (в случае Вико) или коллективно чувствительных эстетических вкусов (в случае Канта) может дать стандарт или модель для политической, этической и правовой дискуссии в мире, где формы релятивизма являются общепринятыми, а серьезный диалог между очень разными нациями является существенным. Некоторые философы, такие как Жак Рансьер, действительно берут на себя инициативу Жана-Франсуа Лиотара и называют « постмодернистское » состояние тем, в котором существует « dissensus communis ». [81]
Ханна Арендт адаптировала концепцию Канта о sensus communis как способности эстетического суждения, которая представляет суждения других, в нечто релевантное для политического суждения. Таким образом, она создала «кантианскую» политическую философию, которую, как она сама сказала, Кант не писал. Она утверждала, что в реальном мире часто присутствует банальность зла, например, в случае кого-то вроде Адольфа Эйхмана , которая заключалась в отсутствии sensus communis и вдумчивости в целом. Арендт, а также Юрген Хабермас , которые занимали схожую позицию относительно sensus communis Канта , подвергались критике со стороны Лиотара за использование ими sensus communis Канта в качестве стандарта для реального политического суждения. Лиотар также рассматривал sensus communis Канта как важную концепцию для понимания политического суждения, не нацеленную на какой-либо консенсус, а скорее на возможность « эвфонии » в «дис-сенсусе». Лиотар утверждал, что любая попытка навязать какой-либо sensus communis в реальной политике будет означать обман со стороны одной фракции, наделенной властью, по отношению к другим. [82]
В параллельном развитии Антонио Грамши , Бенедетто Кроче и позднее Ганс-Георг Гадамер черпали вдохновение из понимания Вико здравого смысла как своего рода мудрости народов, выходящей за рамки картезианского метода. Было высказано предположение, что наиболее известная работа Гадамера, « Истина и метод» , может быть прочитана как «расширенное размышление о последствиях защиты Вико риторической традиции в ответ на зарождающийся методологизм, который в конечном итоге доминировал в академическом исследовании». [83] В случае Гадамера это было в определенном контрасте с концепцией sensus communis у Канта, которая, как он чувствовал (в согласии с Лиотаром), не могла иметь отношения к политике, если использовалась в ее первоначальном смысле.
Гадамер вступил в прямой спор со своим современником Хабермасом, так называемым Hermeneutikstreit . Хабермас, с самопровозглашенным Просвещением «предрассудком против предрассудка», утверждал, что если освобождение от ограничений языка не является целью диалектики, то социальная наука будет доминировать тем, кто победит в дебатах, и, таким образом, защита Гадамером sensus communis эффективно защищает традиционные предрассудки. Гадамер утверждал, что быть критичным означает быть критичным к предрассудкам, включая предрассудок против предрассудка. Некоторые предрассудки будут верны. И Гадамер не разделял мнение Хабермаса о том, что стремление выйти за пределы языка посредством метода само по себе не является потенциально опасным. Более того, он настаивал на том, что, поскольку всякое понимание приходит через язык, герменевтика претендует на универсальность. Как писал Гадамер в «Послесловии» к « Истине и методу » , «я нахожу пугающе нереальным, когда люди вроде Хабермаса приписывают риторике обязательное качество, которое следует отвергнуть в пользу непринужденного, рационального диалога».
Поль Рикёр утверждал, что Гадамер и Хабермас оба были правы отчасти. Как герменевтик, как и Гадамер, он соглашался с ним относительно проблемы отсутствия какой-либо перспективы вне истории, указывая, что сам Хабермас рассуждал как человек, пришедший из определенной традиции. Он также соглашался с Гадамером, что герменевтика — это «базовый вид знания, на котором покоятся другие». [84] Но он чувствовал, что Гадамер недооценил необходимость диалектики, которая была бы критической и дистанцированной и пыталась бы выйти за рамки языка. [85] [86]
Недавний комментатор Вико, Джон Д. Шеффер, утверждал, что подход Гадамера к sensus communis подвергся критике Хабермаса, потому что он «приватизировал» его, удалив его из изменяющегося и устного сообщества, следуя греческим философам в отрицании истинной коммунальной риторики в пользу навязывания концепции в рамках диалектики Сократа, нацеленной на истину. Шеффер утверждает, что концепция Вико предоставляет третий вариант для концепций Хабермаса и Гадамера, и он сравнивает ее с недавними философами Ричардом Дж. Бернстайном , Бернардом Уильямсом , Ричардом Рорти и Аласдером Макинтайром , а также недавним теоретиком риторики Ричардом Лэнхэмом . [87]
Другие дебаты Просвещения о здравом смысле, касающиеся здравого смысла как термина для эмоции или побуждения, которые являются бескорыстными, также продолжают оставаться важными в обсуждении социальных наук, и особенно экономики . Аксиома о том, что сообщества могут быть с пользой смоделированы как собрание эгоистичных индивидов, является центральным предположением во многих современных математической экономике , и математическая экономика теперь стала влиятельным инструментом принятия политических решений.
Хотя термин «здравый смысл» уже стал менее часто использоваться в качестве термина для эмпатических моральных чувств ко времени Адама Смита, продолжаются дебаты о методологическом индивидуализме как о чем-то, предположительно оправданном философски по методологическим причинам (как утверждали, например, Милтон Фридман и совсем недавно Гэри С. Беккер , оба члены так называемой Чикагской школы экономики ). [88] Как и в эпоху Просвещения, этот спор поэтому продолжает объединять дебаты не только о том, каковы индивидуальные мотивы людей, но и о том, что можно знать с научной точки зрения, и что следует полезно предполагать по методологическим причинам, даже если истинность предположений сильно сомнительна. Экономика и социальные науки в целом подвергались критике как убежище картезианской методологии. Таким образом, среди критиков методологического аргумента в пользу предположения об эгоцентричности в экономике есть такие авторы, как Дейрдре Макклоски , которые опирались на вышеупомянутые философские дебаты с участием Хабермаса, Гадамера, антикартезианца Ричарда Рорти и других, утверждая, что пытаться заставить экономику следовать искусственным методологическим законам плохо, и лучше признать, что социальная наука движима риторикой.
Среди католических теологов такие авторы, как теолог Франсуа Фенелон и философ Клод Буффье (1661–1737) выступили с антикартезианской защитой здравого смысла как основы знания. Другие католические теологи подхватили этот подход, и были предприняты попытки объединить его с более традиционным томизмом, например, Жан-Мари де Ламенне . Это было похоже на подход Томаса Рида, который, например, оказал прямое влияние на Теодора Жуффруа . Это означало базирование знания на чем-то неопределенном и иррациональном. Маттео Либераторе , ища подход, более соответствующий Аристотелю и Аквинскому, приравнял этот основополагающий здравый смысл к koinaí dóxai Аристотеля, которые соответствуют communes conceptiones Аквинского. [53] В двадцатом веке этот спор особенно ассоциируется с Этьеном Жильсоном и Реджинальдом Гарригу-Лагранжем . [89] Жильсон указал, что подход Либератора означает категоризацию таких распространенных убеждений, как существование Бога или бессмертие души, под тем же заголовком, что и (у Аристотеля и Аквинского) такие логические убеждения, как невозможность существования чего-либо и его несуществования одновременно. Это, по мнению Жильсона, выходит за рамки первоначального смысла. Относительно Либератора он писал:
Попытки такого рода всегда заканчиваются поражением. Чтобы придать техническую философскую ценность здравому смыслу ораторов и моралистов, необходимо либо принять здравый смысл Рида как своего рода неоправданный и не подлежащий оправданию инстинкт, что уничтожит томизм, либо свести его к томистскому интеллекту и разуму, что приведет к его подавлению как особой, особой способности познания. Короче говоря, не может быть середины между Ридом и святым Фомой. [53]
Жильсон утверждал, что томизм избегал проблемы выбора между врожденными определенностями Декарта и неопределенным здравым смыслом Рида, и что «как только проблема существования внешнего мира была представлена в терминах здравого смысла, картезианство было принято» [89] .
«Здравый смысл, из всех вещей, среди людей, наиболее равномерно распределен; ибо каждый считает себя настолько щедро наделенным им, что даже те, кого труднее всего удовлетворить во всем остальном, обычно не желают большей меры этого качества, чем они уже имеют. И в этом маловероятно, что все ошибаются: убеждение скорее следует считать свидетельством того, что способность правильно судить и отличать Истину от Ошибки , которая, собственно, и называется Здравым смыслом или Разумом , по природе одинакова у всех людей; и что разнообразие наших мнений, следовательно, возникает не из-за того, что некоторые наделены большей долей Разума, чем другие, но исключительно из-за того, что мы направляем наши мысли по-разному и не фиксируем наше внимание на одних и тех же объектах. Ибо обладать сильным умом недостаточно; главное условие — правильно применять его. Величайшие умы, поскольку они способны на высочайшие совершенства, также открыты для величайших заблуждений; и те, кто движется очень медленно, могут все же достичь гораздо большего прогресса, если будут всегда придерживаться прямой дороги, чем те, кто, бегя, отступают от нее».
Некоторые говорят, что чувства воспринимают виды вещей и передают их здравому смыслу; а здравый смысл передает их воображению, воображаемое — памяти, а память — суждению, подобно передаче вещей от одного к другому, со множеством слов, не делающих ничего понятным. ( Гоббс, Томас, «II.: of imagination», The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury; Now First Collected and Edited by Sir William Molesworth, Bart., 11 vols. , vol. 3 ( Leviathan ), London: Bohn).